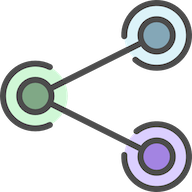В душе каждого еврея таится искорка веры, даже если он не догадывается о ней.
Санаторий «Рижское взморье» («Ригас Юрмала») — ныне первоклассный отель – некогда принадлежал Четвертому управлению Минздрава Латвии. Каждый, кто бывал в Майори, видел оригинальное современное здание, похожее на многопалубный корабль. Это главный корпус, подступающий вплотную к золотистому пляжу. Кроме него, в комплекс входило несколько благоустроенных особняков старой постройки. По численности персонал санатория вдвое превышал количество отдыхающих, которых здесь обслуживали с подчеркнутой учтивостью и предупредительностью. Лечебное отделение со всевозможными процедурами, комфортабельные жилые комнаты, тренажерные и спортивные залы, бассейн с каскадом, сауны, столовая ресторанного типа — все было по высшему разряду. В таких условиях блаженствовала, отвлекаясь от суетных дел, партийная и чиновничья элита республики. Но сюда по разным протекциям приезжали также гости из Москвы, Ленинграда, Киева, других городов.
Престижные путевки нередко доставались академикам и знаменитым врачам, популярным артистам и композиторам, известным спортсменам и прочим звездам. Мне же доводилось много раз попадать в этот райский уголок по росчерку пера министра здравоохранения Латвийской ССР В.Канепа. Его щедрость по отношению ко мне объяснялась просто. Министр благоволил к журналистам, которые не обходили вниманием подведомственную ему медицину. «Рижское взморье» издавна облюбовал и Аркадий Исаакович Райкин, отдыхавший здесь едва ли не каждое лето.
Однажды наше пребывание в санатории совпало. Было это в восьмидесятых годах на заре «перестройки». Райкин, вызывавший всеобщее любопытство, держался неприметно, но не обособленно. Мы познакомились без всяких условностей, как часто случается на курорте. При встречах разговаривали то урывками, то довольно продолжительно, прогуливаясь или найдя укромное местечко в просторном холле, устланном коврами.
Между тем среди отдыхающих подобралась небольшая компания еврейских интеллигентов. Они держались поодаль от номенклатурной знати. Как-то, увидев их в сборе, Райкин произнес на идише: «Работай, кумт эсн митиг!» (Господа, пошли обедать!) Стол, за которым сидели Райкины, располагался слева от входа в столовую. Их было пятеро: Аркадий Исаакович с супругой Руфь Марковной (она к тому времени перенесла тяжелое заболевание), их дочь Екатерина и сын Константин со своей первой женой. Помню, Константин без умолку хохотал, шумно изъяснялся и куражился за едой, нисколько не считаясь с косыми взглядами в его сторону. Похоже, он намеренно эпатировал местную публику — знай наших! А вечерами при полном аншлаге шли его концерты в большом открытом зале филармонии в Дзинтари. И ни один из них не пропустил Аркадий Исаакович, неизменно находившийся в первом ряду среди зрителей. Надо было видеть, как просветлялось его лицо, когда он делился впечатлениями об этих концертах, с каким нескрываемым восхищением и гордостью отзывался об актерских способностях сына.
Аркадий Райкин умел подмечать всякие забавные ситуации и добродушно посмеивался над ними. Однажды его и других именитых гостей Юрмалы городской комитет партии пригласил покататься на яхте по Рижскому заливу. Писатель А. Чаковский уселся там за пианино и заставил всех слушать, как он «играет», постукивая одним пальцем по клавишам. А потом самонадеянно спросил: «Ну как?!» Наглядно изобразив эту сценку, Райкин пожал плечами: «Гор мишуге!» (совсем свихнулся!). Ну а в серьезном плане он много рассказывал о ростках еврейской культуры в Москве, о возникающих еврейских музыкальных и театральных коллективах, которые зачастую обращались к нему за помощью и советом.
Как-то, коротая время, мы с Райкиным придумали себе незатейливую игру. Каждый из нас произносил какое-нибудь слово на иврите и тут же переводил на русский. Обоим это доставляло удовольствие. Иные слова напрашивались сами собой без напряжения памяти: дерех — дорога, шамаим — небо, авода — работа, рош — голова. К нашей общей радости изредка удавалось даже составить простенькое предложение. Ничего более путного ни у Аркадия Исааковича, ни у меня, увы, не получалось. Тогда я узнал, что родившийся в Риге Райкин в первую мировую войну эвакуировался с семьей в город Рыбинск, где прошли его детские годы. Здесь он ходил в хедер.И здесь же посещал обычную школу.
Предаваясь воспоминаниям, Райкин рассказал об одном из своих рыбинских соучеников по школе. Хилый еврейский мальчик, вызванный на уроке к доске, был настолько растерян и взволнован, что у него под ногами образовалась лужа — на виду у всего класса. Мальчик, с которым произошел конфуз, впоследствии оказался необычайно способным и стал всемирно известным физиком. То был академик Я.Зельдович. В зрелом возрасте, уже овеянные славой, однокашники редко встречались. Но когда это все-таки случалось, каждый говорил, что завидует другому.. Среди тех, кто общался с Райкиным на курорте, был журналист Александр Каверзнев, мой давний знакомый. Страдая время от времени запоями, он тем не менее сделал карьеру и приобрел широкую известность как комментатор Центрального телевидения. Его новенькая «Волга» вызывающе красовалась на территории санатория вопреки строгому запрету парковать там частные машины.
Однажды Райкин подошел ко мне и спросил, не помню ли я, как часто принято у евреев произносить традиционное пожелание «В будущем году — в Иерусалиме!»? — Кажется, только раз в году — в Йом Кипур. — Вот и я так думаю, а Каверзнев спорит со мной, утверждая, что евреи это говорят каждую субботу. Чувствуя, что мои отношения с Райкиным становятся все более доверительными, я осмелился задавать некоторые деликатные вопросы.
Меня, например, интересовало, как он оказался на злополучном антисионистском митинге в Колонном зале Дома союзов. — Туда меня заманили, пригласив на «срочное совещание» и не сообщив каких-либо подробностей, — ответил Аркадий Исаакович. — Я понял, что очутился в ловушке, когда увидел разыгрывающийся фарс перед телевизионными камерами. Я был в состоянии шока. И, конечно, не выступал, если помните. Зашла речь и о клеветнических слухах вокруг имени Райкина, которые прокатились по всей стране. Их передавали из уст в уста в разных вариантах, иногда со ссылкой на «достоверные источники». Одно из самых абсурдных измышлений своди-лось к тому, что артист отправил свою покойную мать для погребения в Израилe, а в гробу припрятал много бриллиантов, целое состояние.
Или еще слух, но иного свойства – про сорванный концерт в Киеве. Якобы на вопрос «Кто я такой?», содержавшийся в райкинском монологе, некто из зала выкрикнул: «Ж*д!» — Что касается Киева, — последовал ответ, — ничего подобного и в помине не было. Наоборот, нигде, пожалуй, в другом месте меня так восторженно не принимали. Мой памятный концерт в этом городе, проходивший, кстати, под эгидой ЦК Комсомола, имел грандиозный успех.
По окончании люди несли меня на руках к машине. А нелепых наговоров и сплетен действительно хватало. Когда я жил еще в Ленинграде, в бытность Романова секретарем обкома КПСС, несусветную чушь обо мне, в том числе историю с бриллиантами, распространял некий партийный лектор. Я возмущался, писал письма, ходил на приемы. Я настойчиво требовал остановить этого клеветника и ему подобных. Но все мои усилия ни к чему не привели. Тогда я начал самостоятельно бороться с порочащими меня слухами. Стал высмеивать их прямо с эстрады – в скетчах. И это помогло! «Официальное» муссирование небылиц с антисемитским душком прекратилось.
Мы коснулись также зловещего плана Сталина в отношении евреев под конец жизни диктатора. О том, насколько реальной была надвигавшаяся беда, много лет спустя Райкину напомнил случай. К нему в антракте одного из концертов обратилась незнакомая женщина, видимо, его почитательница, и протянула нумерованный лист бумаги, испещренный строчками машинописи. — Я это берегла для Вас, — сказала она, пояснив, что ее муж в начале пятидесятых работал в КГБ. — Возьмите себе на память». Перед глазами Райкина предстал список, сплошь состоявший из еврейских фамилий, среди которых он нашел и свою — с перечислением домочадцев, указанием адреса ленинградской квартиры и даже с пометкой о наличии черного хода. Такие списки составлялись во всех крупных городах.
Несмотря на сомнения, приведу и следующий рассказ А.Райкина. – А знаете ли Вы, как проходило последнее заседание Политбюро при Сталине? — спросил он.
То, что я услышал, показалось невероятным. Обсуждался единственный вопрос — о предстоящей депортации евреев. С докладом о подготовке железнодорожного транспорта к массовой акции выступал Каганович. Вдруг поднимается Ворошилов и, еле сдерживая ярость, заявляет, что вся эта затея недопустима, и что он не желает быть ее участником. Затем нервно расстегивает китель, вынимает из кармана и бросает на стол свой партийный билет. Сталин изменился в лице. Ничего не сказав, он покинул заседание и, почувствовав себя плохо, больше не возвращался.
Откуда Райкин почерпнул эти сведения, я не спрашивал. Такую версию довелось слышать впервые. Пересказывая ее почти дословно, с трудом представляю себе Ворошилова в роли бунтовщика с пробудившейся совестью. К тому же решившегося перечить «отцу народов», перед которым трепетали его соратники. Впрочем, не стоит гадать. Ясность в сию тайну мадридского двора, возможно, когда-нибудь внесут историки.
Как раз в то лето, когда происходили эти беседы, на рижском взморье поселился, арендовав несколько помещений, выездной полуподпольный хедер. Мальчишек в ермолках и с белыми шерстяными кисточками поверх штанов я увидел во дворе у знакомых дачников. Тогда это было необычное зрелище. Смотрю, появился и раввин в черном облачении. Мы обменялись приветствиями, разговорились. Хедер с его питомцами и наставниками, оказывается, прибыл из Москвы. Подростки изучали Тору, совершали молитвы, соблюдали кашрут. Занятия сочетались с отдыхом на свежем воздухе. Я будто перенесся в свое детство. Мне, родившемуся в довоенной Латвии, не внове наши заповеди и традиции. Но теперь они лишь смутно проступали в памяти. И я признался, что знаю-то всего-навсего одну-единственную молитву на все случаи жизни. На что ребэ ответил
— В душе каждого еврея таится искорка веры, даже если он не догадывается о ней.
Вскоре об этой встрече я поведал Райкину, связав ее с воспоминанием о гетто, откуда я спасся чудом и где погибли мои родители, сестра семи лет отроду, близкие и далекие родственники от мала до велика. Я сказал:
— В минуты отчаяния, тревоги или опасности я всегда читал молитву «Шма Исраэль«.
Райкин молчал. Потом наклонился ко мне (будучи чуть выше ростом) и еле слышно произнес:
— Я тоже!
— Но я и сейчас, Аркадий Исаакович! — почему-то так же тихо добавил я.
Он опять наклонился и повторил:
— Я тоже!
В первую минуту эти неожиданные слова меня поразили. Кто бы мог подумать! Хотя задним умом вполне осознаю, что в сущности не былоповода для удивления. И все же впечатление от того разговора свежо посей день. Такое не забывается.