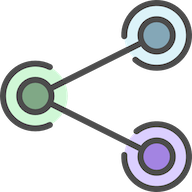А вот у меня знакомый есть, Петя Черноусов, человек русский, православный, выпивающий… еврейский поэт, пишущий на идиш. Да-да, Петя с ранней юности, оказывается, попал в еврейскую историю.

Дневал и ночевал в доме своего любимого учителя, пристрастился бегать в синагогу, часами просиживал там над святыми письменами и, благодаря блестящим лингвистическим способностям, легко усвоил не только идиш, но и иврит…
Короче, русский человек оказался здесь, в Израиле, ведущим еврейским поэтом, знатоком идишисткой культуры. Недавно получил премию Союза писателей за лучший сборник стихов на идиш. (Если б я все это изобразила, меня в очередной раз упрекнули бы в «пережиме» ситуации.)
Кроме того, у Пети оказался хороший голос, и он с удовольствием поет хазанут — еврейскую литургию.
Когда хорошее настроение, Петя даже выходит попеть на наш Арбат — пешеходную улицу Бен-Иегуда. Поет религиозные гимны в ашкеназской транскрипции, величаво кивая прохожим, бросающим в его кепку шекели…
И вот недавно стоит он на Бен-Иегуде, поет. Подходит к нему старый человек, по виду — рав из религиозного района Меа-Шеарим. Слушал, слушал, смахнул слезу, бросил в Петину кепку пять шекелей и говорит — на идиш, разумеется — ведь ультрарелигиозные евреи в быту не говорят на иврите, считая этот язык святым:
— Сын мой, — говорит старик, — тебе бы стоило надеть кипу. На что ему Петя, тоже на идиш, отвечает:
— Да кипу надеть дело-то нехитрое, только это нечестно, ведь я — гой!
— Сын мой, ты не понял. Я сказал надеть кипу, а не снять штаны!
Вообще, Петя — человек честный до оскомины — время от времени попадает в такие, вот, забавные ситуации, из которых выбирается, как правило, с величайшим достоинством. Он и рассказывает о них без тени улыбки, гордясь своей уникальностью.
Иду, рассказывает, как-то вечерком, тихой улочкой в религиозном районе Геула. Вдруг из дверей маленькой синагоги выскакивает немолодой еврей, хватает меня за руку и выпаливает на идиш:
— Друг, как хорошо, что ты подвернулся! У нас не хватает человека для миньяна. (миньян, как известно — необходимое число мужчин для совместной молитвы).
Петя, как человек, повторяю, честный до отвращения, говорит ему — я, мол, вам, благородным иудеям, не гожусь, я — гой.
Диалог, напоминаю, происходит на идиш. А на каком еще языке могут говорить два прохожих в Геуле!
Тот отмахивается, досадливо, так:
— Ну так что, подумаешь! Молиться умеешь? — Умею, конечно!
(Спрашивается: — почему «конечно!»?)
— Пошли!
И знаете, рассказывает Петя, зашли мы в эту маленькую синагогу, и так душевно помолились!
В то же время Петя настаивает на исконном своем вероисповедании, что выглядит комично, ведь он гораздо больший еврей, чем многие представители нашей московско-ленинградской интеллигентской публики.
Но, очевидно, ему это необходимо для ощущения значительности и отдельности своей неповторимой личности.
Вхожу в автобус, вижу Петю, развернувшего огромную толстенную старую книгу на иврите. Выясняется, что это талмуд с комментариями Раши.
— Вот! — говорит пьяненький Петя важно, кивая на страницу, — Это кладезь мудрости, настоящая сокровищница. Вообще, если бы я был евреем, я бы стал сатмарским хасидом. Но я — христианин… (Я при этом помалкиваю, стараясь не встревать в Петины, слишком для
меня экстравагантные, рассуждения).
— Да, я христианин! — продолжает он, возбуждаясь. — Вот только во что никогда не поверю — так это в то, что Иисус Христос — сын Божий. В это ни один здравомыслящий человек никогда поверить не сможет.
Несколько секунд я оторопело вглядываюсь в его высокомерную улыбку и, наконец, кротко спрашиваю:
— А во что вы, Петя, верите?
— Как, во что! — восклицает он, — в единого всемогущего Бога!
— Тогда вы, Петя, еврей, — тихо и твердо говорю я тоном, каким онколог сообщает пациенту роковой диагноз.